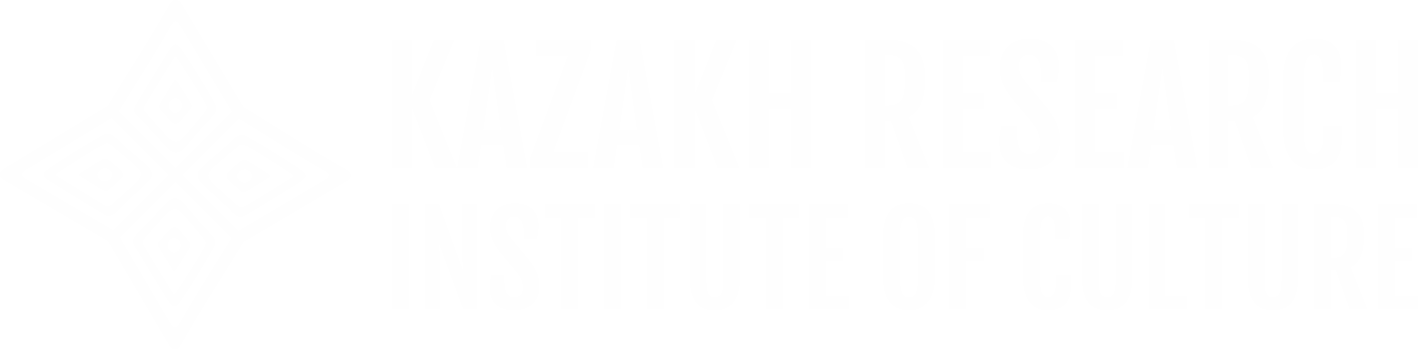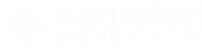Магия натюрморта

В картинной галерее «Жаухар», которая специализируется на классике отечественной живописи, среди полотен корифеев есть и очень интересные работы наших современников.
Чтобы представить, каким разнообразием, яркостью и выразительностью обладает отечественная школа живописи, я предлагаю познакомиться с произведениями трёх мастеров, выполненными в одном жанре, в жанре натюрморта. С одной стороны, натюрморт вечен, прост и всем понятен, но с другой – как раз-таки в этой простоте могут скрываться самые глубокие тайные смыслы.
«Гранаты» Кенжебая Дуйсенбаева относятся к ранним произведениям художника – они написаны более сорока лет назад, в 1973-м. С тех пор много воды утекло, в 90-е художник создал свои программные работы, такие как «Дерущиеся кони», «Черное солнце» и другие. Затем, как отмечала искусствовед Баян Барманкулова, направление творческих поисков Дуйсенбаева изменилось – он встретился с метафизической живописью Джорджо Моранди, и вот тогда «появилось желание работать в поле чистой живописи, искать истину высказывания в пространстве цвета». Таким образом, написанные еще в самом начале пути «Гранаты» стали как бы предчувствием главного.
Несмотря на крупный размер полотна, в нём нет излишеств, но каждый элемент проявлен внятно, выразительно, ясно. Взгляд сверху позволяет охватить все предметы сразу и во всей полноте. Все взаимосвязано в этом натюрморте, одно является продолжением другого – округлость плодов и круглая пустота корзины, отточенные, резкие грани форм и экспрессивное сплетение прутьев… Художник как бы выносит за скобки всё несущественное, сосредоточившись на цвете и форме. Их он заостряет, форсирует, добиваясь такой образной выразительности, которой лишена обычная натура. Чтобы натура стала образом, нужен взгляд художника.
Пётр Белов и Илья Устьянцев – живописцы другого поколения и другой школы. Натюрморт для них тоже любимый жанр, если не сказать единственный. При этом их работы таинственны и забавны, полны скрытых смыслов и внешнего очарования. Под кистью этих художников жанр простой, «буржуазный» и наименее подходящий для выражения картины мира перестает играть свою привычную роль, это территория виртуальной реальности, причём выписанной так изысканно и со всеми подробностями, что привычная реальность проигрывает этой сотворённой, выглядит её бледной копией.
Парадоксальное соединение несоединимого, когда малое становится огромным, прочное – хрупким, когда устойчивое теряет равновесие, подвижное застывает в трансцендентальном покое, а всё вместе находится в движении, парит, игнорируя закон всемирного тяготения – этот сюрреалистический принцип живописи проглядывает даже в подчёркнуто будничных и прозаических названиях работ – «5 o`clock», «Кетчуп», «Завтрак», «Кувшины» и других.
Кто возьмётся определить, где здесь граница между вымыслом и реальностью? Особенно если виртуальная реальность проявлена художником так убедительно вещественно. Живопись Ильи Устьянцева и Петра Белова – всегда игра. Чудная, виртуозная игра с формами, смыслами, цветом и даже ароматами. Каждая их картина обладает собственным звучанием, погружает зрителя в некое медитативное пространство, наполненное волшебным светом, настраивает на созерцательный лад, увлекает в мир, где нет места будням и прозе.
Свои работы эти мастера пишут долго, тщательно прорабатывая, оттачивая каждую деталь, в которую можно вглядываться до бесконечности. Фактуры, сферы прописаны с таким знанием натуры и любовью к совершенству, что невозможно взгляд оторвать. Живопись превращается в магию.
Ольга БАТУРИНА, кандидат искусствоведения, профессор